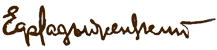|
"Синагога". Из частной
коллекции в Америке

Писал холст "Синагога" и думал, какая толща лет пролегла между мной, сегодняшним, и тем мальчиком с Базарной улицы, дом номер сто, в Одессе. Тот мальчик, Фима, знал будни, но как активно он участвовал в праздничной суете, ощущал почти на ощупь радость наступления праздников. Вряд ли он
|
 |
знал, какие события в еврейской истории отмечали эти праздники. Не историю он чувствовал, а себя - в "Сукот", "Сымхес – Тойре", "Хануке", "Пуриме" и "Пасхе", он не знал, что символизирует звук, извлекаемый из рога в синагоге, но, был уверен, что звук этот победный. Праздники, начинавшиеся красивым, громким, переливчатым колокольным звоном, доносящимся из близ стоящей Успенской церкви, вселяли в мальчика некую тревогу, любопытство, но не вызывали в нём тех лёгкости тела и духа, возникавших в нём в |
 |
| |
|
|
|
|
 |
еврейские праздники. Все праздники, освещённые и обогретые солнцем, сплелись в один клубок. Мне кажется, что в те дни ни разу не было ненастной погоды, независимо от времени года. Синагог в Одессе было много, может даже больше, чем церквей.
Синагоги были профессионально обозначены. В Успенском переулке находилась синагога мясников и торговок кошерной птицей, на Мещанской, угол Большой – Арнаутской – сапожников и заготовщиков обуви, на углу моей улицы рыбников. В ней папа
|
 |
имел постоянное место в середине третьего ряда, мама – на балконе, за занавеской, близко к балюстраде. Я взбегал по лестнице к маме, за поддержкой и лаской. "О, Фименю, надо быть скромнее и не мешать людям молиться.". Люди уносились в своих молитвах в неведомое будущее, плакали под переборы и трели канторского голоса. Чем лучше пел кантор, чем выше он мог подняться и опуститься в клавиатуре своих голосовых связок, тем дальше он уводил прихожан от суеты, тем большую надежду он вселял в них. Это был
настоящий акт искусства. |
 |
| |
|
|
|
|
 |
В синагоге Бродского на хорах играл орган, в ней молился "цвет" города. В синагогу Шалашную французы, оставляя Одессу на военном корабле, выпустили два снаряда, и один из них поджёг её. Налётчики (грабители) бросились спасать свитки торы в надежде, что так они очистят совесть от прошлых ограблений и будущих налётов.
В праздник "Сукес" балконы походили на ласточкины гнёзда, прилепившиеся к стенам домов. Верх "суки" – балкона покрывали пальмовыми ветвями, привезенными из Палестины.
|
 |
"Суккот". Из частной коллекции в Израиле.

Незадолго до праздника в наш порт прибывал из Яфо пароход с трюмом, набитым пальмовыми ветвями, лимонами и изюмом. Мой папа, в талесе, молился, стоя у окна, выходящего на восток, в одной руке он держал пальмовую ветвь, а в другой – лимон. |
 |
| |
|
|
|
|
 |
"Симхат Тора". Из частной коллекции в Лондоне

Я помню свитки торы, выносимые во время праздника "Симхес- Тойре".
Вспоминаю занавеси из красного бархата, отделанные золотой бахромой и кистями. Два льва поддерживали корону передними лапами. Вытканные золотой канителью они |
 |
бликовали от света горящих свечей и от ярких солнечных лучей, проникавших через цветные стёкла окон синагоги. Когда раздвигались занавеси, как на сцене, взорам представлялись свитки торы в различных цветных одеяниях. Мужчины, облачённые в талесы, брали свою драгоценную ношу, целовали и обносили по проходам между скамьями. Шум в здании в эти моменты стоял неимоверный: от откидывающихся деревянных сидений, от сипений евреев, торопящихся к проходу, чтобы прикоснуться
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
губами к цветному платьицу, в которое наряжали тору, от громких молитв на древнееврейском языке. Все пребывали в экстазе, злые становились "добрыми", добрые – ещё добрее, астматики дышали ровнее, здоровые – учащённей. Нас, детей, поднимали на руки, чтобы и мы приложились губами к свиткам, а я, брезгливый, незаметно чмокал свои пальцы. Таким помнится мне этот, почти карнавальный праздник.
|
 |
"Ханука". Из частной коллекции в Лондоне

"Ханука" – незадолго до этого праздника на базарах, на пересечениях улиц, во дворах начинали торговать флажками. Это были двусторонние флажки, сплетённые из разноцветных полосок глянцевой бумаги, похожие на маленькие коврики размером в 25 – 30 см. с чётким |
 |
| |
|
|
|
|
 |
геометрическим орнаментом, приклеенные к палочке. Нижняя часть палочки была обёрнута бумажной бахромой, а верхняя – выступала над флажком для того, чтобы можно было насадить на него яблочко, а на яблочке укрепить тонкую свечку. Для этой цели покупались ярко красные яблоки сорта "цыганка". Нам, детям, покупались вьюны, отлитые из свинца, четырёхкрылые, с выступающим в центре гвоздиком. Мы обхватывали их подушечками трёх пальцев и заставляли вращаться на гладкой |
 |
поверхности стола или пола. На каждом крыле была вытеснена буква еврейского алфавита, и если вьюн падал на букву, которую ты загадывал, то получал выигрыш, несколько орешков.
"Пурим" – это был сладчайший, вкуснейший из праздников. Замешанное на дрожжах тесто для "уменьташа" было своевольно, своенравно. Оно раздражало маму выбеганием из накрытой белоснежной салфеткой эмалированной кастрюли, и одновременно радовало своей прекрасной |
 |
| |
|
|
|
|
 |
всхожестью. А штрудель? О, эти длинные ломтики с коричнево – красной коркой, с нарезками ножа, на чёрном противене, пышущие жаром,
с великолепным запахом ванили и корицы. Орешки, изюм, варенье и пьяная вишня из настойки, упрятанные в хрустящее, слоёное тесто – всё это выдумки первых сластён в мире. Честолюбивые хозяйки, соседки и не соседки обменивались тарелочками, в которые укладывались их изделия, "шолох – мунысы" обёртывались
|
 |
голубоватыми, крахмальными салфетками. На каждом еврейском празднике птица – цыплёнок, курица, гусь, утка – главное праздничное блюдо. Как-то, в тридцатые годы, я приехал к маме на летний отдых. Вскоре, на Привозе купили живую утку. Когда её выпустили из корзины, выяснилось, что она хромает. Я упросил не относить её к резнику. Хромая, она бродила по квартире и балкону, поклёвывая кукурузные зёрна. Она, видно, осознала мою важную роль в её судьбе, и следовала за мной по
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
пятам, когда я возвращался с этюдов.
Фрагмент картины "Нам привезли мацу". Из частной коллекции в Лондоне

Пасху отличали маца и очень серьёзные хлопоты, связанные с подготовкой к этому празднику.
Это был праздник обновления. Занавеси, прикрывающие окна в течение года, |
 |
обменивались на кружевные, с вычурным орнаментом гардины. Вытаскивались из буфета столовый и чайный сервиз, изготовленные на знаменитом фарфоровом заводе Кузнецова. Каждый год, заново, они производили неизгладимое впечатление своими чудесными рисунками цвета свежего сена и блеском золотой каёмки. Перемытые в тазу с водой и вытертые новыми полотенцами, они расставлялись на раздвинутом столе, издавая особый протяжный звук в случае столкновения предметов
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
из сервизов. Всё металлическое, в чём варилось, на чём жарилось, пеклось на огне и в горячей золе, очищалось от годовой патины, некошерности. Носильщик, почему-то на голове, доставлял в дом мацу в светлых, плетёных корзинах, покрытых тёплыми простынями.
Первый седер мне запомнился запахом мыла Сиркиса, которым нас намыливали, купая в первый предпасхальный день; луной за окном, настойчиво присутствующей за пасхальным столом; словом "сыкойрес", |
 |
означавшим что-то горькое в фарфоровом сосуде; шляпами, фуражками и шапками, одеваемыми за обеденным столом единственный раз в год; бокалом, стоящим на краю праздничного стола и открытой, входной дверью, чтобы Илья пророк мог войти и в наш дом, и отпить вина. Мы часто и подолгу смотрели в сторону этого бокала, так что, в конце концов, нашему напряжённому взору представлялось, что вина в бокале стало значительно меньше, что Илья, по-видимому, уже навестил нас, и можно закрыть дверь. Вопросы
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
задавал младший брат, а меня интересовало только, как выдерживает Илья Ануве, выпивая вино в каждой еврейской одесской семье, ведь вот-вот он будет настолько пьян, что не сможет добраться до своей постели на небе. Утро. Луну сменило солнце, папа отправился в синагогу, а мы, под звуки шипящего самовара, на белой, пасхальной скатерти пьём чай с очень вкусными гренками из мацы, поджаренными нашей мамой.
Ефим Ладыженский |
 |
|
 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|